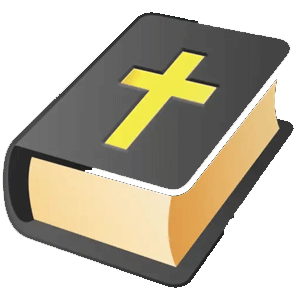Недельная глава Беѓаалотха. Стенограмма беседы
Мы сегодня будем изучать с вами недельную главу Торы БЕЃААЛОТЕХА — такое сложно произносимое название. Эта глава Торы включает в себя с 8 по 12 главы книги Бемидбар и на русском языке книги Чисел. Название, как мы уже сказали, труднопроизносимое и на русский язык его можно перевести, как «когда ты будешь поднимать» или «когда ты будешь зажигать». Зажигать, конечно, не в сленговом смысле, а в смысле простом – зажигать светильник. Аарон должен собрать весь народ и в присутствии всего народа зажечь светильник. В недельной главе мы видим очень необычное по тем временам чудное явление.
Когда-то давным-давно я увидел в торговом центре пожилую женщину, наверное, это была женщина-бедуинка, она стояла у эскалатора идущего вверх и очень боялась на него ступить – это действительно страшно, какой-то двигающийся пол, который стремительно, в ее глазах, во всяком случае, поднимается вверх. И вот она наконец-то решилась, сейчас или никогда, ступила на нижнюю ступеньку этого эскалатора и сказала по-арабски, то же, что и в свое время сказал Гагарин по-русски: «Поехали!».
Наша недельная глава, она отчасти напоминает ту самую ситуацию. Впервые в истории избранным становится не один человек, а весь народ. Мы видели, как Моше, в свое время посвятил, поднял Аарона в статус священника. Моше сделал по повелению Божьему Аарона священником и Моше, в тот момент, был для Аарона источником святости. А в нашей недельной главе мы видим совершенно новое явление, мы видим целый народ, который становится источником святости для колена левитов. Моше повелели собрать весь народ, и весь народ должен был возложить на левитов руки – это уникальная церемония рукоположения. Трудно себе представить, как весь народ, а это почти два миллиона человек, возлагают руки на двадцать две тысячи из колена Левия, трудно представить себе, как это все происходит. Возможно, мы здесь имеем дело с этаким мысленным возложением рук, с мысленным делегированием левитов, выделением на служение и перед нами своеобразная астральная проекция рук, телепатия, когда человек возлагает на кого-то руки мысленно. Но можно предположить и такой вариант, что это рукоположение было буквальным.
Так или иначе, весь народ, весь Израиль становится источником святости, подключается к самому святому источнику. Уже не один человек, как было до этого, это не только Авраам, который был избран, и не только Моше, который был избран – это состояние всего народа, который поднят на уровень носителя святости и живого общения с Богом, причем, это стояние в святости очень устойчивое. Что это значит? Мы видим, что приходят люди нечистые, люди, которые в момент Песаха не смогли соблюсти Песах по той или иной причине, может быть, они занимались мертвыми, может это были какие-то другие причины, которые помешали им из-за нечистоты войти в Седер Песах, прикоснуться к пасхальной жертве и есть пасхальную жертву. И Всевышний снисходит даже к нечистым, то есть предусматривает возможность и нечистым людям служить в Песах. Уже не существует понятия той избранности, что, о’кей, если ты избран, то значит — ты и окажешься чистым в Песах, а если не оказался, то значит — плохо молился, значит — плохо веровал, значит — ты вообще недостаточно веришь и «пошел вон отсюда!», отлучение, анафема и маранафа. Но Всевышний дает человеку второй шанс, дает возможность всем восстановиться в служении, даже если в нужный момент человек оказался нечистым. Мы впервые видим уже обетование святости и никакой маранафы. Кстати, в скобках скажем, что слово «маранафа» с такой любовью многими произносимое, которые до сих пор не знают значения этого слова, а слово состоит из «маран» — господин и «ата» — грядет. Что это значит? Что мы не судим, но мы откладываем какую-то ситуацию до того момента, пока грядет Господь, мы отделяемся от человека не как правые, а как сомневающиеся в его правоте, придет Господь и рассудит между нами.
Итак, Песах-Шени или Второй Песах – второй шанс для нечистых стать чистыми, то есть весь народ получает обетование чистоты. Более того, народ становится и источником этой чистоты не только для левитов, но и для прозелитов, для пришельцев. Любой человек, который его пожелает, может присоединиться к народу Израиля, стать частью этого народа и в этом случае он празднует Песах. Если человек был финном или якутом, и он прошел гиюр, присоединился к народу Израиля, мы можем сказать: «Ну, хорошо! Он присоединился к народу Израиля, он стал, как один из нас. А на каком собственно основании, он будет вспоминать об исходе из Египта? Его предки никогда из Египта не выходили, мы вообще не знаем, где он находился тогда, когда мы выходили из Египта». И, тем не менее, он становится соучастником всей святой истории народа Израиля, сразу же вместе с Израилем он, как в современной фантастике сегодня принято такое слово, «попаданец» — это история о человеке, который попал в другую временную историческую эпоху или другую цивилизацию, в параллельный мир. И вот, гер, прозелит, он становится «попаданцем», он попадает в совершенно другую историю святости и становится сопричастным этой святости, становится буквально, «как один из нас», разделяет, в том числе, и нашу историю, и, разделяя прошлое, приуготовляет себя и для разделения будущего. То есть мы имеем с ним общую историю, общую территорию, общую судьбу и общее будущее – к этому, в общем-то, допускается любой прозелит.
Еще одно важное и интересное место – это рассуждения Торы о возрасте левитов, которые начинают служение. В нашей главе мы читаем, что левит должен начать служение в возрасте двадцати пяти лет. Если ни у кого из нас нет проблем с памятью, то мы вспомним, что несколькими главами назад, в недельной главе НАСО, левиты приступали к служению в возрасте тридцати лет. И поскольку мы знаем, что у Всевышнего тоже нет проблем с памятью, мы вынуждены сказать, что в данном случае имеет место не опечатка, а какая-то загадка. Что же за история за этим стоит? В двадцать пять лет человек поступает в университет, в техникум, ПТУ, как хотите это назовите и начинает учебу на левита, разумеется, если он имеет отношение к колену Леви и в тридцать лет он это обучение заканчивает, то есть обучение занимает пять лет. Пять лет – это общепринятый и в иудаизме, и в традиции срок для того, чтобы всерьез, глубоко научить человека какой-то специальности. Даже если специальность кажется нам легкой на первый взгляд или не требующей особых интеллектуальных усилий, человек полностью входит в специальность, начинает иметь отношение к специальности, становится профессионалом, через пять лет обучения или опыта – это минимум. Есть, конечно, ситуации, когда требуется больше времени для обучения, например обучение врачей или хирургов, это случается, но за меньшее время невозможно реально научиться работать, и с другой стороны, это служит и нам указанием в поисках своей специальности, в поисках своего жизненного пути. Если человек за пять лет не смог как-то продвинуться в специальности, пять лет учился, пять лет крутил бизнес, пять лет пытался быть таксистом, скрипачом или журналистом, не важно, если за эти пять лет он не смог ничего достичь, если он не состоялся в этой специальности, то мудрецы советуют ему: «Брось эту специальность, поищи для себя, может быть, какое-то другое, более удобное, более подходящее поприще».
Мы говорили, что наша книга, которую мы изучаем, часть Пятикнижия, называется Бемидбар, что значит «в пустыне». Как мы оказались в пустыне мы все помним — нас вывел Всевышний из Египта, повел в страну Израиля и Всевышний много говорит о том комфорте, который сопровождал нас в пути. Многие народы, которые живут в пустыне, имеют проблемы с питанием, с добычей пропитания, с водой и много других проблем – жить в пустыне очень тяжело. У евреев, которые вышли из Египта, проблем было намного меньше: с неба падала манна, было облако, которое сопровождало, был столп, был колодец, казалось бы, живи – не хочу. Но, как говорила поэтесса Цветаева «тоска по родине, ностальгия — вот морока», которая стала мучить евреев в пустыне. И вспоминались им прежде всего не люди, потому что с людьми они довольно мало дружили, больше времени посвящали работе, вспоминались им не чудеса архитектуры, потому что евреи сами строили египетские города, видели их изнанку и знали, как тяжело это достается, а вспоминали они, конечно же, египетскую кухню.
Израиль сегодняшний – это собрание разных изгнаний, разные люди, которые собрались в стране и каждый привез с собой свою кухню. Поэтому в Израиле много так называемых этнических ресторанов, есть марокканские рестораны, йеменские рестораны, венгерские рестораны, каждый народ склоняется к своей кухне. Ашкеназская бедная кухня, бедная – в смысле не богатая, она, к сожалению, мало выживает сегодня и вытесняется восточными кухнями, но марокканские и йеменские рестораны еще по-прежнему есть. Народ, даже переехав в богатую страну и даже благодушествуя, по своей кухне все равно скучает.
И евреи тоже скучали по целому ряду продуктов и прежде всего по мясу, мяса очень хотелось. Надо вспомнить, что египтяне не любили пастушество, пастухи были для них мерзостью и пастухов-евреев они в свое время поселили в землю Гошен — очень плодородную землю, дающую много зеленой, сочной, наверное, для овец вкусной травы и, разумеется, мясо баранов было сочное, упитанное, тем более, что никакие Асуанские плотины и гидроэлектростанции еще не были построены, воздух был экологически чистым и барашки паслись на экологически чистых, заливных лугах. Народ обуял голод, одолела ностальгия о былом, о египетской кухне. Что делать, если мучит ностальгия, а египетские ресторанчики в пустыне еще не открылись? Можно заняться другим еврейским любимым развлечением – это ворчанием и высказыванием претензий к правителям. Действительно, как бы ругать правительство и жаловаться на жизнь – традиция всех народов, но у евреев она тоже ярко выражена. И вот израильтяне собираются к Моше и говорят: «Вот такое и такое меню у нас было в Египте, мы разнообразно и здорово питались (мы потом разберем, о чем идет речь), а сейчас у нас куда ни кинь, везде эта манна и она нам уже остохорошела эта манна, смотреть на нее уже не хотим, надоела она нам хуже манной же каши», тяжело Моше слушать это.
А Моше, что Моше? Восемьдесят лет было человеку, пас себе овец и пас, не думал о какой-то политической карьере, Всевышний его призвал, дал ему этот народ нести на руках и Моше стал преданно служить Всевышнему и, соответственно, народу, а тут, нежданно-негаданно или жданно и гаданно, как в воду глядел – народ приходит со своими жалобами. И становится Моше очень и очень тяжело на душе и Моше возопил ко Всевышнему и сказал: «Доколе, Господи! Доколе я буду терпеть этот народ, буду носить его на руках, цацкаться с ним и нянькаться с ним, менять ему памперсы и подавать ему соску среди ночи? И я один его таскаю, я же не Ты, мне тяжело, мне горько, мне больно, а тут еще никакой благодарности, меня постоянно критикуют и постоянно шпыняют, то им нет мяса, то в салате трюфелей не хватает. Надоели! Спасите, помогите! — или точнее, поскольку он обращается к Единому Богу, — Спаси, помоги, гевалт!». И в ответ на это Всевышний говорит: «Давай, подойдем к вопросу конструктивно. Выбери себе семьдесят надсмотрщиков – ‘шатрим’, которые будут наблюдать вместе с тобой за народом. Возьми себе семьдесят помощников». Мидраш говорит, что эти помощники – это люди, которые уже служили на похожей должности в Египте. У египтян была довольно таки сложная система дисциплинирования рабов, у них были надсмотрщики-полицейские, которые и получали нагоняй, получали втык, если рабы не выполняли свою рабскую норму, то есть эти служители принимали на себя удар своего народа, несли на себе проблемы своего народа и страдали за народ. В этом смысле сказано в книге «Послание к евреям», что Моше «предпочел поношение Христово», что он пошел по Христовому пути и вот, путь Христа, путь Машиаха в данном случае – это самое страдание за народ, который с ним разделили семьдесят старейшин. Они были готовы принимать удары за народ, и вот именно таких людей Моше назначил на служение.
Как мы уже сказали, очень часто мы любим критиковать начальство, любим критиковать вообще людей, а начальников в частности, пасторов, служителей и поэтому мы можем иногда критикой человека, служителя ударить. Я, упаси Бог, не говорю сейчас: «Не открывайте уста на помазанника» и так далее. Да, действительно, можно и нужно критиковать пасторов, можно и нужно их обличать, если есть такая необходимость, если они идут где-то как-то неправильным путем. Но все же важно делать это с любовью, понимая, что иногда они страдают даже в своей личной жизни, даже в какой-то своей личной практике — они страдают за дела своей общины, за своих овец, за паству, можно так сказать, поэтому критикуя их, нужно понимать, что возможно вы критикуете их за какие-то свои проблемы. Не стоит быть желчным и злым по отношению к своим пасторам и служителям, они многое делают, и часто страдает их личная жизнь, их семья, их здоровье. И если мы видим пастора в какой-то нужде и в какой-то беде, раввина в какой-то нужде и в какой-то беде, то прежде всего мы должны подумать – нет ли в этом проблемы общины, это вещи взаимосвязанные и мы об этом уже немало говорили, когда говорили о связи первосвященника и народа, здесь мы говорим примерно то же самое в контексте связи народа и левитов, народа и служителей, которые над народом стоят, в нашем случае — отношение прихожан и пастора, общины и пастора. Всевышний специально ставит людей, которые готовы страдать за народ, готовы принимать, согласно традиции, «побиение за народ» и в этом часть их служения. И мы помним, что мы имеет такого Начальника, который претерпел за нас всевозможные побиения и всевозможное поношение, и только прообразом которого был Моше, про которого сказано, что он «предпочел поношение Машиаха».
О чем, собственно говоря, ностальгировали евреи, какое же было меню у евреев в египетском рабстве? Здесь мы с вами ступаем на удивительную территорию языка и попытаемся увидеть — насколько действительно самые простые вещи оказываются самыми сложными для перевода.
Вот, например, одна из вещей, о которой скучали евреи, обозначается словом «хоцир». Если перевести дословно, то опять-таки, если вы спросите сегодняшнего израильтянина что значит слово «хоцир», то он скажет вам, к гадалке не ходи, что «хоцир» — это сено. Но в языке Торы – это лук-порей и, разумеется, из двух значений, а значение «хоцир» — сено тоже было, комментаторы понимают, что не сеном египтяне кормили рабов, они были не сильно добрыми, но все же были людьми рациональными и понимали, что человек не будет кушать сено. Итак, лук-порей в принципе полезный овощ и евреи его любили откушать.
Следующий плод, о котором мы поговорим – это слово «аватехим», которое используется в Торе, в синодальном переводе вы увидите слово «дыня». Но это едва ли может значить – дыня, хотя разные версии есть, например, средневековый комментатор, известнейший и авторитетнейший комментатор из Франции Рабби Шломо Ицхаки, который больше известен нам по аббревиатуре РАШИ, говорит, что это – свекла. Видимо, потому что РАШИ просто в силу места проживания, не знает арабского слова «батих», которое означает арбуз и, соответственно, арамейского слова «аватиха», которое тоже означает арбуз, и не трудно понять, что в данном случае слово «аватехим» означает арбуз. Естественно, после жары, после жаркого трудового дня по собиранию соломы и изготовления кирпичей и тому подобного, арбузы – всякий, кто ел, кто жил в жарком климате, да и в не очень жарком, всякий знает насколько это полезная еда. И даже на фоне манна, который падал с неба, о котором говорится, что он давал вкус любого продукта, как говорит мидраш, тем не менее, арбуз все-таки может составить ему конкуренцию.
Еще одно интересное слово, по которому евреи тосковали – это слово «кишуим», в единственном числе слово «кишу», во множественном числе «кишуим». В современном языке, опять-таки, если вы спросите израильтянина, что значит слово «кишу», он вам скажет, что это значит кабачок. Но в семитских языках того времени, слово «кишу» означало тыква или любой овощ из рода тыквенных, в том числе естественно и кабачок, но наиболее распространенным это слово было в значении огурец. Так что в данном случае синодальный перевод правильный, он совершенно правильно переводит – огурец.
Рядом с ивритом существовал финикийский язык, любой человек, который читает на иврите, более-менее хорошо сможет читать на финикийском языке, эти языки очень близки, гораздо более близки, чем, скажем, русский и белорусский, или русский и украинский. И с финикийского языка, а финикийцы были известными путешественниками и растаскивали слова куда попало, слово «кишу» попало в греческий язык и сначала оно стало «цикос», мы помним, что греки любят свое «-ос» добавлять в конце каждого существительного, потом оно постепенно превратилось в «кукуос» и оттуда же появилось римское «кукумис» в значении «огурец», которое докатилось до нас, и мы можем читать его на израильских банках с солеными огурцами – это английское слово «cucumber», которое тоже означает «огурец». Оттуда же позже появилось слово «кусо», которое означает «кабачок» в современном арабском языке, но тем не менее, слово «кишу» в данном случае, как мы можем видеть, это слово означающее именно «огурец», а не «кабачок».
Это стоит понимать и знать, что названий многих овощей, плодов, цветов в еврейской палитре нет вообще, в семитских языках нет названий для этих цветов. Многие названия овощей, животных и тому подобного сегодня просто трудны, если не сказать, невозможны для перевода, потому что их значение, их понимание утеряны и почти всегда мы ищем подходящее значение. Если сегодня «кишу» — это на иврите «кабачок», то как будет на иврите слово «огурец»? На современном иврите слово «огурец» означается словом «мэлафэфон» и оно состоит из слова «мэлон» — это, как мы сейчас знаем, на английском – «дыня» и слово «пэпонос» — «зрелая». А что такое «зрелая дыня»? Что может означать по-гречески «зрелая дыня»? Это слово «яблоко». Итак, сегодня «мэлафэфон» — это «огурец», а в древнем греческом – это вполне себе было «яблоком». Ну а откуда русское слово «огурец»? А вот русское слово «огурец» происходит от слова «неспелый» и на греческом языке это звучит, как «ангурус». Что же значит слово «ангурус» на греческом языке? Оно означает не просто «неспелый», оно означает «виноград». Если вы помните, есть такая знаменитая басня Эзопа «Лиса и виноград», лиса забралась в виноградник, но не смогла дотянуться и сказала: «Ах, так я и знала, зелен он еще!». Лиса хотела достать «ангурус» в значении «виноград», не смогла его достать и сказала: «Он же ‘ангурус’, он незрелый», то есть и так непригоден для пищи. Вот такое, значит, было у евреев меню из тех слов, которые ставятся под сомнение.
А из тех слов, которые мы точно знаем, у них была рыба — «дага», у них был чеснок — «шум» и у них был лук, обычный репчатый лук, который называется «бацаль». Итак, что у них было за меню? Лук-порей, арбузы, огурцы, то есть овощной салат, как гарнир и арбуз, как десерт и кроме того у них было мясо, лук и рыба, вот по всему этому они и тосковали чрезвычайно. Рассуждениями об их меню мы, пожалуй, и закончим обсуждение нашей недельной главы, мы коснулись, разумеется, только самых-самых малых моментов, потому что Тора неисчерпаема, каждый год мы открываем новые и новые грани.
Пусть господь благословит всех тех, кто изучает Тору, кто ищет воли Творца везде, всегда и во всем! Пусть Господь вас благословит!